Онлайн трансляция | 12 сентября
Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
Статьи
Исповедники Печерские: архимандрит Никон (Белокобыльский, +1954). Ч.2
Продолжение. Начало: Исповедники Печерские: архимандрит Никон (Белокобыльский, +1954). Ч.1
Три ссылки
К концу 1920-х годов советская власть окончательно перешла от административного давления на Церковь к открытому террору. В августе 1930 года в Ленинграде началась первая волна арестов братии Подворья Киево-Печерской Лавры. Всех задержанных обвинили по «политическим» статьям 58-10 и 59-10 УК РСФСР («контрреволюционная агитация», «антисоветская деятельность») и вскоре этапировали в северные лагеря. Аресты продолжались еще полтора года и завершились в марте 1932 года ликвидацией последнего монашеского состава подворья.
23 августа наc всех живущих на подворье 15 человек лишают свободы, кроме троих и судит нас тройка, меня и еще 7 человек в концлагерь на 3 года в соловецкие лагеря, а остальных на вольную ссылку.
Среди осужденных оказался и игумен Никон. Его арестовали по делу так называемых «иосифлян». При задержании отцу Никону удалось тайно передать в Киев записку о массовых арестах братии. 11 декабря 1930 года он был осужден внесудебной «тройкой» Ленинградского управления ОГПУ по статье 58-10 на три года лишения свободы и направлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).
В январе 1931 года отец Никон был этапирован на Соловки, а затем переведен в лагерь в городе Кемь. Вместе с ним туда же отправили архимандрита Трифиллия (Смагу), иеромонахов Александра (Банко) и Савву (Каменского), архидиакона Евмения (Хорольского), иеродиаконов Трифона (Цуркана) и Тихона (Коваленко), а также монахов Гервасия (Ищенко) и Амфиана (Присяжнюка).
Через четыре месяца, 21 апреля 1931 года, в рамках масштабного пересмотра лагерных назначений, отец Никон был переведен на оставшийся срок в административную высылку — сначала в село Визинга Печорского округа (ныне Республика Коми), а затем в город Котлас Северного края.
Три года лагерей стали новым этапом, служение превратилось в выживание.
Однако и после окончания срока преследования не прекратились. Уже 5 марта 1933 года он был вновь арестован — на этот раз по обвинению в контрреволюционной агитации и участии в тайных богослужениях.
14 октября 1933 года постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ отец Никон был приговорен к повторному трехлетнему заключению. По его собственным воспоминаниям, этот срок он отбывал в лагерях на Кольском полуострове — в Мурманской области.
Всего в заключении он провел около пяти лет.
Скитания
«Я потерял ногу и меня как инвалида выслали на вольную ссылку в Коми-Зыря, где еще дали срок 3 года. Сидел в Устьивольской тюрьме год и 15 дней. Я был болен, выпустили меня из заключения, я попал на комиссию и меня освободили условно-досрочно по инвалидности. Получил также паспорт на 3 месяца в 1934 году. Я вернулся, 2 месяца жил в Новгороде, заслуживал себе годовой паспорт, работал печником при милиции, с сентября уехал в Ленинград. Почти 10 месяцев жил без прописки».
Со слов самого отца Никона можем сделать вывод, что болезнь и инвалидность сделали его неинтересным для лагерной системы — его освободили условно-досрочно. Но даже после освобождения жизнь оставалась крайне трудной: ему выдали временный паспорт всего на три месяца, и отец Никон оказался фактически без гражданских прав, с ограничением свободы передвижения — не только из-за утраты ноги, но и по статусу.
Он вернулся на юг, в Новгород, где прожил два месяца, работая печником при милиции, чтобы «заслужить» себе хотя бы годовой паспорт. Только осенью 1934 года он смог переехать в Ленинград — город, к которому был духовно привязан и где проживали знакомые по подворью. Но и там условия не стали легче: почти десять месяцев он жил без прописки, а значит — под постоянной угрозой ареста, без права на работу и жилье.
Тем не менее, несмотря на физические страдания, бытовую нестабильность и угрозу нового преследования, отец Никон не озлобился, не отошел от веры. Его краткое, сдержанное свидетельство — «жил, работал, заслуживал паспорт» — говорит о нем гораздо больше, чем любой подробный рассказ: за этими словами стоит смирение.
Отец Никон продолжал поддерживать связь с духовенством. В трудные годы он был источником поддержки для других. Его пастырская забота о ближних особенно проявилась в послессылочные годы — об этом свидетельствуют, в частности, воспоминания священномученика Феодосия (Болдырева). После возвращения из ссылки в 1935 году отец Феодосий поселился в селе Афимьино Вышневолоцкого района Тверской области. Именно туда он прибыл, как сам указал в протоколе допроса 22 декабря 1937 года, по приглашению своего товарища — Никона Леонтьевича Белокобыльского. В письме отец Никон, который в то время служил в Пятницкой церкви, предложил отцу Феодосию переехать и обещал устроить его певчим. Связь между двумя священниками, вероятно, имела глубокие корни: оба были родом из соседних уездов Воронежской губернии, и вполне возможно, что были знакомы с юности. Таким образом, свидетельство отца Феодосия не только подтверждает продолжение церковной деятельности отца Никона после его освобождения, но и указывает на его заботу о собратьях — ведь он не просто трудился сам, но и помогал другим устроиться на служение, несмотря на крайне тяжелые и опасные обстоятельства.
«В 35 году в июле выехал в Донбасс к племяннику, там не прописали, приехал в Вышний Волочек и жил по 38 год. Выслан на станцию Гряды Октябрьской железной дороги. В 40 году был задержан в Ленинграде. С собора меня взяли в губ. розыск, там меня продержали около 2 суток и освободили. Я еще продолжал ездить в Ленинград»
Скромная должность певчего в кладбищенском храме, вероятно, была для него и прикрытием, и единственной возможной формой участия в жизни Церкви в условиях постоянной неопределенности. Он продолжал передвигаться, искать возможность служения, работать, как мог: в 1935 году поехал в Донбасс к племяннику, но не получив там прописки, снова вернулся в Вышний Волочек. Здесь он оставался до 1938 года, пока не был вновь выслан — на этот раз на станцию Гряды Октябрьской железной дороги.
Даже в 1940 году, уже в почтенном возрасте и с подорванным здоровьем, отец Никон рискует — он приезжает в Ленинград, поет в хоре, и снова попадает под надзор. Его задерживают, допрашивают в губернском розыске, но отпускают. Тогда он возвращается к своему привычному скитальческому образу жизни: служит в храмах, получает за это небольшое вознаграждение — 25 рублей, и, как сам пишет с редкой самоиронией, «получал за службу 25 рублей и жил припеваючи».
Приходская жизнь
21 июля 1944 года Архиепископом Калининским и Смоленским Василием игумен Никон был назначен настоятелем Михаило-Архангельской церкви села Федово Нижне-Волоцкого района Калининской области. Так начался федовский период жизни игумена Никона — один из самых мирных в его судьбе за последнее десятилетие. Вернувшись к церковному служению в селе Федово Вышневолоцкого района, он стал частью вновь ожившего прихода Архангела Михаила, который, несмотря на официальную регистрацию только в августе 1944 года, уже с 1943-го вновь собирал верующих на богослужения.
«22 июня 1941 года война и 10 октября 1941 года я эвакуировался в Калининскую область. В Вышнем Волочке меня не прописали, был как раз приказ главно-командования Северо-Западного фронта (? слово не разборчиво) не прописывать. И я выехал в Спировский район село Ободово, где прожил 2,5 года. 1 апреля 1944 года прописан на месяц, а в мае на постоянно. И я ходил в храм в Федово и там пел и подрабатывал, а с 19 августа я служу в Федово. Обновленцем я не был, мой послужной список заверен секретарем Ленинградского Митрополита».
Поначалу отец Никон пел на клиросе, подрабатывая, а затем, с 19 августа 1944 года, начал совершать службы как священник. В справке от исполкома Калининского облсовета указывалось, что район деятельности его как священника ограничивается местожительством верующих прихода церкви села Федово (с другими тремя соседними населенными пунктами).
Однако мирная жизнь в селе не была свободна от сложностей. Игумен Никон столкнулся с необычной ситуацией: в отсутствие священника в предыдущие годы требы и обряды в храме совершала бывшая псаломщица — Анна Владимировна Фессалоницкая. Ставшая для прихожан привычным духовным авторитетом, она и после назначения священника продолжала крестить, отпевать, служить молебны и панихиды, не признавая церковного порядка и полномочий нового настоятеля. Здесь стоит упомянуть о необычной для священника внешности о.Никона – длинные соломенного цвета волосы, которые он не собирал в косу и полное отсутствие бороды. Даже братия подшучивала над эти образом. А бойкая прихожанка и подавно.
Отец Никон, человек монастырского склада и далекий от реалий на местах, не сразу понял, как действовать в подобной ситуации.
Он обращается с письмом к уполномоченному по делам Русской Православной Церкви, где с простотой и смирением просит разъяснить свои обязанности: «Я человек монастырский, на приходе первый раз… Устав, служба — это для меня знакомо. Я певец с голосом».
Это письмо не только передает личную манеру отца Никона — откровенную, доверчивую, немного наивную — но и раскрывает его внутренний мир: человека, который не стремился к власти или внешнему успеху, но всю свою жизнь посвятил служению, молитве и покорному следованию церковному уставу.
Повседневная жизнь Федовского прихода в послевоенные годы складывалась в условиях скромных ресурсов, напряженности и постоянной осторожности. Несмотря на возобновление служб, храм и община находились под постоянным финансовым давлением: налоги, займы, сборы на нужды фронта и епархии часто превышали реальные возможности. Например, в начале 1946 года отец Никон обратился с просьбой пересмотреть завышенный налог — районные власти почти вдвое завысили его доход. После проверки налог был снижен с учетом реального дохода, проживания в церковной келье и содержания коровы. Из этого можно сделать вывод, что даже сельские священники, живущие в скромных условиях, подвергались множеству сборов — как за служение, так и за личное хозяйство. Несмотря на возраст и испытания, отец Никон спокойно и честно решал эти административные вопросы, не преувеличивая и не ссылаясь на свое прошлое.
Между тем сама фигура священника, его положение и быт в условиях послевоенного села оставались крайне уязвимыми. Несмотря на восстановление служб, получение продовольствия не было гарантировано. Только 28 декабря 1945 года, то есть спустя почти два года с момента начала служения, исполком Вышневолоцкого райсовета направил в адрес уполномоченного сообщение, в котором говорилось, что о. Никону и другим служащим храма даны указания о выдаче хлебных карточек.
Этот простой факт — получение хлебных талонов — стал, по сути, важным актом признания: неформальный сигнал о том, что духовенство вновь включается в число тех, кто имеет хотя бы минимальные социальные гарантии. Для отца Никона, пережившего аресты, ссылки, скитания, — это было не просто продовольственное обеспечение, но и подтверждение права на мирную жизнь и служение, пусть и в скромном сельском храме. Когда спустя полгода отец Никон вернулся в Киево-Печерскую Лавру, он представил в духовный собор ряд документов, в том числе справку о том, что 12 июля 1946 года был снят с учета по снабжению.
Ранее, 11 ноября 1945 года, за долгую и усердную службу в Троицкой церкви города Бологое, он был возведен в сан архимандрита управляющим Калининской епархией — епископом Калининским и Вышневолоцким Арсением (Крыловым).
Позван во единонадесятый час ( Мф. 20: 1–16)
С открытием Киево-Печерской Лавры архимандрит Нестор (Тугай), который с 1953 года стал ее наместником, начал собирать всех бывших насельников Лавры. В 1946 году он приехал за о. Никоном и увез его обратно в Киево-Печерскую Лавру. Сборы заняли 2 недели.
Вышневолочанка, тогда прихожанка церкви села Федово, Ольга Борисовна Анисимова, дочь диакона Бориса Алексеевича Малышева, рассказывала, как вместе с подругой провожала архимандрита Никона на поезд. Ольга Борисовна описывала о. Никона так: «Он был полным человеком, с высоким «женским» голосом, у него не росла борода. Таким он и остался в памяти…». Надо сказать, что прихожане из Федово любили своего батюшку Никона: об этом говорят сохранившиеся письма, которые он получал от своих бывших прихожан, с теплом и благодарностью вспоминавших о духовной поддержке, полученной от него в тяжелые времена.
29 июля 1946 года архимандрит Никон вернулся в Киево-Печерскую Лавру. По назначению Духовного собора он нес клиросное послушание — в силу возраста и состояния здоровья. После северной ссылки, где он потерял ногу и стал инвалидом, отец Никон уже не мог передвигаться самостоятельно. В Лавре он жил в 43-м корпусе на Ближних пещерах, продолжая свое служение в звании архимандрита. Несмотря на физические страдания, он сохранял любовь к церковному пению.
В начале 1950-х в Киево-Печерской Лавре жило около ста человек — помимо вернувшейся старой братии сюда пришли монахи из Ионинского и других близлежащих монастырей, которые были закрыты. Все собрались именно здесь, в Лавре, ставшей духовным центром послевоенного монашества Киева. Среди старцев были известные духовники, к которым стремились верующие: отец Кукша (Величко), отец Дамиан (Корнейчук) — схимонах и чадо преподобного Ионы Киевского, а также игумен Андрей (Мищенко), архимандрит Полихроний (Дубровский), в то время послушник Ахилла (Орлов) и другие.
В послевоенную Киево-Печерскую Лавру монахи, нередко прошедшие через тюрьмы и ссылки, возвращались за частичкой себя. Вне Лавры они не чувствовали полноты выбранного ими пути, поскольку только здесь — в тишине келий, за богослужением, в братском кругу — они вновь становились теми, кем были призваны быть: монахами. Все остальное — ссылки, лишения, запреты — не отменяло их обета, но лишь здесь, в Лавре, этот обет обретал дыхание. На Дальних пещерах действовала богадельня для престарелых насельников, а паломники, приезжавшие в обитель, часто ночевали под открытым небом — гостиниц при монастыре не было, и приют им давали верующие. Повседневность Лавры была наполнена молитвой и пением — псалмы и духовные песнопения звучали повсюду, создавая особую атмосферу. Лаврский клирос славился высоким уровнем исполнения: в нем пели опытные монахи, для которых пение было не просто искусством, а формой молитвы.
Автор этих строк был свидетелем как однажды наместник монастыря пригласил в алтарь певчего, который пропел всю жизнь на клиросе и сказал, что годе дескать, молись отец, а молодые пусть поют. Клирошанин принял приглашение и стал молиться молча, но предательская тень от его бороды на стене подергивалась «под фонограмму» в такт пению – он беззвучно открывал рот в темноте.
Особую известность снискал архимандрит Никон (Белокобыльский) — с редким по красоте голосом и талантом запевалы. Его исполнение, например, псалма «Блажен муж», трогало слушателей до глубины души. Это пение, живое и искреннее, звучало без техники и записей — только голос, тишина храма и молитва. Воспоминания архимандрита Аврамия, в схиме Агапита (Куявы), точно передают ту атмосферу: «Идешь по монастырю — и всюду поют псалмы, звучат прекрасные мужские голоса… Архимандрит Никон только начинает “Блажен муж” — уже душа трепещет…»
В характеристике, подготовленной духовным собором Киево-Печерской Лавры в 1952 году, говорилось: «…состоящий в Лавре с 1901 года был все время известен как исполнительный священнослужитель и как знаток лаврского пения. За всю свою 50-летнюю деятельность архимандрит Никон Леонтьевич Белокобыльский ни в чем предосудительном не был замечен». Эти слова как нельзя лучше отражают его путь — исполненный верности, молитвенного труда и стойкости.
Новой волны гонений архимандрит Никон уже не застал, мирно почив о Господе 10 февраля 1954 года. Погребен он на Зверинецком кладбище в Киеве.
Материал подготовлен архивной службой Киево-Печерской Лавры
Фотогалерея:
Редакция сайта www.lavra.ua
Еженедельная рассылка только важных обновлений
Новости, расписание, новое в разделах сайта

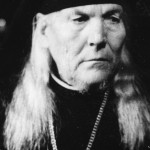
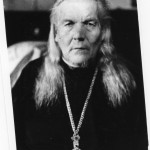

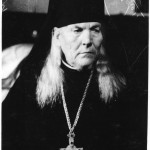






Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: