Онлайн трансляция | 12 сентября
Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
- 12 сентября 2015 Название трансляции
Статьи

Исповедники Печерские: архимандрит ФЕОДОСИЙ (Мельник, + 1957)
Архимандрит ФЕОДОСИЙ
(в миру Мельник Федор Петрович; 8 (20) февраля 1891 — 18 июля 1957)
«Господь нас взял, как зерна, и кинул во весь мир»
Митрополит Антоний Сурожский
Начало
Федор Петрович Мельник родился 8 февраля 1891 года в селе Нараевка Краснопольской волости Гайсинского уезда Подольской губернии (ныне Винницкая область – прим. ред). Он появился на свет в семье отставного солдата Петра Федоровича Мельника и его законной супруги Варвары Савовны. Через восемь дней, 16 февраля 1891 года, младенец был крещен в местной Рождество-Богородицкой церкви.
С раннего детства Федор тяготел к духовной жизни. После окончания второклассной церковно-приходской школы — как говорили в селе, тайно от родителей — отправился в Киево-Печерскую Лавру. Первые рассказы о святой обители он слышал от односельчан-паломников и с тех пор мечтал попасть туда сам. Когда его благочестивые родители узнали о решении сына, они благословили его решение.
Так начался его монашеский путь.
По зову сердца
18 августа 1910 года Федор Мельник обратился с прошением к наместнику Киево-Печерской Лавры архимандриту Амвросию (Булгакову) о принятии его на послушание. Просьба была удовлетворена: он поступил на испытание в странноприимницу, а уже с 1 апреля 1911 года был определен на послушание в лаврскую просфорню. Здесь его быстро оценили как способного и нужного работника. 10 июня 1911 года, согласно резолюции Духовного собора, Федор был окончательно утвержден в числе братии на этом послушании.
Перерыв на войну
Однако спустя год жизнь внесла свои коррективы. 27 сентября 1912 года послушник Федор подал в Духовный собор прошение о предоставлении 25-дневного отпуска для отбывания воинской повинности на родине, в Гайсинском уезде. Позднее, 20 октября, он обратился еще раз — с просьбой продлить отпуск еще на 15 дней по той же причине. Но вскоре стало ясно, что его возвращение в обитель откладывается: 5 ноября 1912 года он написал прошение об увольнении из Лавры в связи с призывом на действительную военную службу. На время его службы выпала Первая Мировая война.
В 1914 году Федор был призван в действующую армию. Он оказался в 19-й артиллерийской бригаде, где дослужился до чина старшего фейерверкера (унтер-офицера — прим. ред). Первая мировая война дала возможность лаврскому послушнику проявить себя с наилучшей стороны, о чем свидетельствуют три Георгиевских креста — II, III и IV степеней, а также Георгиевские медали – полученные им за храбрость. Забегая вперед скажем, что это определило его дальнейшее лаврское послушание.
Охрана и митрополит
После увольнения в запас летом 1918 года Федор возвратился в Киев зрелым и закаленным тяжелыми фронтовыми годами человеком. Он послужил отечеству, но это не притупило желания служить Богу, не ослабило стремления к монастырской жизни. В сентябре он подал прошение наместнику Киево-Печерской обители архимандриту Клименту (Жеритиенко) — принять его вновь, в число послушников, напоминая, что уже некогда нес здесь послушания около трех лет. И Господь благословил его просьбу: 19 сентября Федор был принят, а вскоре, 2 октября, зачислен в ряды послушников благочинного ведомства. Нужно отметить, что это время было очень неспокойным и небезопасным, достаточно вспомнить убийство митрополита Владимира (Богоявленского), произошедшее за несколько месяцев до возвращения Федора с фронта. Для такого времени, в которое требовались храбрость и самопожертвование, он подходил как никто другой. Духовный собор, прекрасно это понимая, назначил его на служение в домовой охране, а позднее – в настоятельские покои.
Именно здесь состоялась судьбоносная встреча: Федор (впоследствии архимандрит Феодосий) впервые встретил митрополита Антония (Храповицкого). С этого времени его путь оказался навсегда связан с именем архипастыря. И как часто бывает в подобных привязанностях на всю жизнь, первое впечатление было негативным. Вот как вспоминает об этом сам отец Феодосий:
«В Киев я приехал (с фронта) в первых числах августа (1918 г.). Владыку митрополита Антония первый раз я видел в Лаврской церкви за всенощной.
Первый раз владыка Антоний произвел на меня неприятное впечатление, ибо я слышал о нем очень много хорошего, а тут был разочарован. Мне он показался маленьким, с очень большой головой и совсем не таким, каким бы я хотел видеть нашего Киевского митрополита, я даже сетовал вслух: «Вот так Киевский митрополит, после Флавиана и Владимира разве можно де посылать такого».»
Однако это разочарование оказалось мимолетным:
«Вскоре мое сетование обратилось сначала в настороженное внимание, а затем в величайший восторг, когда я выслушал одну-другую проповедь нового митрополита, а потом еще его лекцию. Я был поражен не столько словами, которые я мало понимал, сколько мягкостью лица Владыки, добротою его глаз. Когда он говорил проповедь, от него излучался какой-то особый свет. Так постепенно я к нему привык.»
Постепенно из наблюдателя он стал ближним помощником:
«Правда, я стоял далеко от жизни Владыки, а видел его только в церкви, или когда уезжал из Лавры в город для служения, или на какие-либо собрания, которых там было без конца, и на которых Владыка постоянно выступал с речами. Когда же меня назначили охранять Владыку, я еще более увидел, какое сокровище Господь послал Киевской митрополии.»
Как мы уже сказали, возвращение в Лавру пришлось на тяжелую пору: Киев переходил из рук в руки, власть сменялась одна за другой. Архимандрит Феодосий вспоминал, что в то время город находился под гетманом и немецкими войсками, к митрополиту Антонию стекалась очень пестрая публика — от простых прихожан до немецких генералов. Работы для охраны было предостаточно.
Арест
Начинались испытания, которые определили всю дальнейшую жизнь архимандрита Феодосия в неразрывной связке с митрополитом Антонием. Свое послушание он воспринял как смысл жизни и больше никогда не оставлял владыку куда бы тот не последовал.
Воспоминания очевидцев фиксируют драматический момент: власти явились «… в Киево-Печерскую Лавру к митрополиту Антонию и арестовали его. Посадив Владыку в грузовой автомобиль под звон лаврских колоколов, в присутствии многочисленной толпы народа, Владыку Антония увезли из Лавры и заточили в униатском монастыре в г. Бучаче. Вместе с митрополитом Антонием там заточено было еще три архиерея и верный послушник митрополита Антония Федор Мельник, нынешний архимандрит Феодосий, тогда молодой фейерверкер, бывший начальник охраны митрополита в Лавре».
Пребывание в Бучаче не только не побуждало Федора уйти от опального архиерея, но и сблизило невольных узников. Заточение продлилось восемь месяцев.
Когда 7 сентября 1919 года, после занятия Киева Добровольческой армией генерала Деникина, арестанты вышли на свободу и на короткое время вернулись в Киев. И тогда современники отметили особую преданность Федора владыке.
Митрополит Нестор (Анисимов) писал о нем так:
«Вместе с митрополитом Антонием живет его верный, добрый послушник, сотрудник и келейник, беспредельно ему преданный – архимандрит Феодосий, воспитанник Киево-Печерской Лавры, истинно русский инок, крепкий духом, стойкий в вере, самородок».
Бег
Революционные события и поражение Белого движения лишили и митрополита Антония, и его келейника определенного места проживания и спокойной жизни. За несколько лет им пришлось пройти путь – Бучач, Киев, Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Новочеркасск, Новороссийск.
Особенно драматическим было время эвакуации из Новороссийска весной 1920 года. Город был охвачен паникой, фронт стремительно приближался. Митрополит Антоний категорически отказывался бежать, решив остаться и разделить судьбу своего исчезающего отечества. Воспоминания Федора ярко передают тот момент, когда его удалось буквально спасти хитростью:
«…Владыка наотрез отказался выезжать куда бы то ни было, говорит – все равно где умирать… Тогда протоиерей Ломако с греками придумали одну очень умную и безобидную хитрость… Владыке сказали: “Пожалуйте на пароход ‘Элевзис’ служить молебен…”, и он с радостью согласился. Только выйдя в море, владыка понял, что его вывезли и избавили от верной смерти».
Им удалось спастить на последнем уходившем пароходе, тогда как в Новороссийске уже гремели взрывы и начинались расстрелы. Для митрополита Антония и его келейника Федора это стало началом нового витка скитаний теперь на чужбине.
Праздник Благовещения 1920 года они встретили в Афинах (Греция), а вскоре отправились на Афон. По прибытии в Пантелеимоновский монастырь гости попросили воспринимать их не как официальную делегацию, а как простых иноков, что и засвидетельствовали земным поклоном братии. Здесь они прожили тихие пять месяцев, до того момента, пока их снова не вызвали на родину. На этот раз генерал Врангель прислал телеграмму с вызовом митрополита Антония в Крым для возглавления Высшего Церковного Управления Юго-Запада России. Возвращение продлилось недолго и через два месяца белое движение потерпело окончательное поражение.
И снова эвакуация в Константинополь. Они нашли себе приют у владыки Анастасия, который имел две небольшие комнатки в чердачном помещении посольского дома. Прожив здесь около трех месяцев, в начале 1921 года Феодор принимает монашеский постриг с именем Феодосий. Вскоре он был рукоположен во иеродиакона.
Карловчане
По приглашению сербского патриарха Димитрия митрополит Антоний, весной 1921 года переезжает в Сербию. Сначала они были гостями Сербской Церкви в Старой митрополии в Белграде, а затем переехали в Сремские Карловцы.
Иеромонах Феодосий (Мельник) в 1930 году был возведен в сан игумена, в 1932 году — во архимандрита и назначен настоятелем Синодальной церкви в Сремских Карловцах, которая была устроена в митрополичьих покоях в 1932–1936 годах. Это был небольшой, более чем скромный храм. Настоятеля прихожане единодушно называли «всеми любимым батюшкой».
В Сербии начался новый этап жизни — полный забот и испытаний. Как писал сам отец Феодосий:
«Живем теперь несколько в скудости, но зато без одолжений… Чужой хлеб больше чем горек, даже при толстокожии моем я сие замечаю».
Эти слова отражают трудности жизни беженцев, но также и достоинство, с которым они переносили лишения. Отец Феодосий становился все более незаменимым, учитывая, что владыка продолжал вести активную деятельность при упадке физических сил и возрастающей слабости. Мы это видим по тому, что во всех многочисленных воспоминаниях о митрополите Антонии обязательно есть и его келейник, который был рядом с ним в богослужениях и повседневной жизни, защищая владыку от настырных посетителей. Кроме того, он стал доверенным лицом митрополита, ведя переписку и фиксируя события церковной жизни.
Современники характеризовали его как простого, бесхитростного человека, ревностно преданного митрополиту Антонию и готового всю свою жизнь провести в его тени.
Может быть, уместно вспомнить один правдивый случай, свидетельствующий о двоих. Как-то собираясь на литургию, отец Феодосий никак не мог выйти.
— «Федя, мы опаздываем!» — сказал митрополит.
— «Никак не могу найти свои сапоги, что были в прихожей!»
— «Ох, так это были твои сапоги? Пришел какой-то бедняк, почти босой, и я отдал их ему!»
Когда митрополит Антоний слег и категорически отказался от госпитализации, отец Феодосий ухаживал за ним до самой его смерти — 10 августа 1936 года. По свидетельствам очевидцев, верный спутник владыки как родной сын, безутешно рыдал над умершим архипастырем. По завещанию митрополита Антония (Храповицкого) похоронили в крипте Иверской часовне в Белграде, куда впоследствии каждый год в августе приезжал отец Феодосий, чтобы служить панихиду по своему авве, храня память о владыке.
После смерти митрополита Антония, архимандрит Феодосий некоторое время оставался настоятелем церкви в Карловцах.
Вторая Лавра
Надо сказать, что в то время Сербская церковь очень нуждалась в пастырях для восстановления опустошенных войнами монастырей, как мужских, так и женских. Поэтому Сербская церковь с готовностью приняла и большое количество русского духовенства. Вступив на службу в Сербскую церковь, эти священнослужители направлялись как в деревни, так и в отдаленные приходы. Общий литургический язык и почти идентичная богослужебная практика позволили им легко адаптироваться в новой среде. Архимандрит Феодосий был принят в Сербскую церковь, как и другие русские иноки стал настоятелем монастыря.
Его пригласили в Царскую Лавру Високи Дечаны, где он провел последние 20 лет своей жизни сначала как духовник духовного училища («Монашка школа»), затем как настоятель этой древней обители. К началу Второй мировой войны в этом монастыре проживало в общей сложности до двухсот монахов, из них тридцать пять – в священном сане. Кроме того, тогда в Царской Лавре как она называлась размешалась семинария, в которой обучалось сто двадцать человек. Живы еще люди, которые помнят архимандрита Феодосия. Среди них епископ Алексий (Богичевич), постриженник монастыря Дечаны и один из выдающихся современных сербских духовников вспоминает:
«Память о нем не исчезла… Настоятель в церкви, озаренный солнечными лучами, льющимися из окна и словно золотой водопад заливающими амвон и величественного старца Феодосия. Люди говорили, что не видели более прекрасного образа и не могли бы даже представить, чем был этот благородный архимандрит Феодосий, когда по воскресеньям после службы в белой мантии обходил монастырские владения. Он выглядел как какой-то рыцарь из старины. Я помню его руки — большие, сильные и в то же время нежные ладони, пахнущие ладаном и конфетами, которыми он одаривал всех детей».
В апреле 1941 года Королевство Югославия капитулировало и было оккупировано нацистской Германией и ее союзниками. При отступлении армии вместе с войсками была проведена эвакуация и духовного училища монастыря Дечаны. Вместе с учениками уехал и тогдашний настоятель епископ Митрофан. Монастырь опустел. Перед воротами остался один архимандрит Феодосий.
Епископ Митрофан окликнул его из грузовика:
— «Айда, батюшка, запрыгивай! Чего ждешь?»
Феодосий ответил:
— «Куда мне ехать? Один раз я уже бежал — а теперь куда бежать? Нет! Я остаюсь!».
Услышав это, из грузовика выскочили молодые монахи: Макарий, Сильвестр, Герман и Антоний. Войну архимандрит Феодосий и четверо монахов провели в монастыре. Они сохранили Святыню — и Святыня сохранила их.
Именно в эти дни ярко проявился его особый дар – церковная дипломатия, воспитанная еще в годы келейного служения при митрополите Киевском. Архимандрит Феодосий сумел отразить многочисленные доносы и угрозы, выстраивая доверительные отношения даже с любыми властями. Особенно примечательна встреча с вице-королем Албании, когда неожиданное знание последним русского языка разрушило все преграды. Тогда архимандрит с горячим словом поведал высокому гостю историю Косова и монастыря, что в итоге стало залогом спасения обители от уничтожения. И так он спасал монастырь неоднократно.
Власти – от слов к делу
Но годы испытаний принесли новые угрозы. Фашистская оккупация сменилась не менее тяжелыми годами коммунистического режима. Проиллюстрировать эти времена можно судьбами братии монастыря: из числа монахов, переживших военные годы вместе с отцом Феодосием, один – архидиакон Гавриил – погиб в титовском застенке, другой эмигрировал в США, третий, архимандрит Макарий, пробравшись через кольцо албанцев во время осады, провел три года в тюрьме, а затем вернулся в разоренный монастырь и стал его игуменом.
Новые власти проявляли вызывающее поведение, и архимандрит произнес слова, ставшие печальным свидетельством его пути:
«Монастырь этот я спас от итальянцев, албанцев, немцев, но от вас, сербов и черногорцев, истинных хозяев этой земли и древней святыни, этого сделать не могу, да и не хочу».
Послевоенные голодные годы не коснулись монастыря, поскольку отец Феодосий был превосходным хозяйственником. Он быстро восстановил подсобные службы и уже к 1947 году молока, яиц, рыбы, овощей и меда в обители было в достатке. Но, налаживающаяся жизнь монастыря и контраст с жизнью в государстве в целом не устраивала новые власти. В начале 1950 годов было отобрано все: ризница, все земли, леса, пашни и виноградники, коровы, свиньи, амбары, полные кукурузы и пшеницы, даже ключ от церкви — и тем самым монахи были лишены возможности служить в храме и проводили службы в небольшой домовой часовне.
«Видимо, они думали, что так выгонят монахов, но архимандрит Феодосий не сдался. Он сохранил братство, молился и просил всех. Он написал десятки прошений и ходатайств, пока ему не вернули ключ от церкви» — вспоминает епископ Алексий Богичевич.
Батюшка Феодосий был любим народом — все верующие из Метохии просто называли его «настоятель». Когда они узнали, в какой нужде оказалась братия — «не удавалось собрать даже горсть кукурузной муки для просфоры, ни капли масла для лампады» — добрые люди из Дечан и Лочан тайно приносили в монастырь масло, муку и что-то поесть.
Также отец Феодосий не забывал своей связи с обителью, которая его воспитала – Киево-Печерскую Лавру. Как вспоминали люди, которые его знали:
«Когда он пел дивный кондак „В молитвах неусыпающую“, на древнекиевский распев, что напоминало ему о его молодых монашеских годах в Киево-Печерской Лавре, он не мог сдержать слез…» и всегда хотел вернуться, о чем и говорил близким и даже готовился к этому.
Но его желанию не суждено было сбыться 18 июля 1957 года отец Феодосий внезапно умер.
По завещанию архимандрита Феодосия его тело было перевезено в Белград и с почестями, в присутствии множества русских и сербов, предано земле. Он был погребен в крипте Иверской часовни на Новом кладбище — рядом со своим учителем и аввой, митрополитом Антонием (Храповицким).
А мы этой публикацией постарались хотя бы косвенно выполнить желание вернуться дорогую его сердцу Киево-Печерскую Лавру.
Материал подготовлен архивной службой Киево-Печерской Лавры
Фотогалерея:
Редакция сайта www.lavra.ua
Еженедельная рассылка только важных обновлений
Новости, расписание, новое в разделах сайта




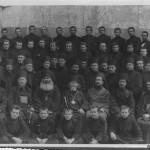








Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: